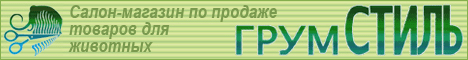Живопись Валентина Михайловича Сидорова, Народного художника СССР, - это глубинные коды России. России деревенской, вчера еще столица какой стеснялась, а сегодня вот оглянулась – и стесняться уж нечего. Нет деревни. Скучает столица. Скучает по полям колосящейся пшеницы, по изгибам реки, у берега которой светловолосые мальчики забрасывают удочки, по деревенским избам, полевым сараям, по запаху сена, по коту Ваське, мурлычущему за лоскутной занавеской печи, по парному молоку, что с каким-то особенным звоном ударяется о стенки алюминиевого бидона… Дует «Березовый ветер», мчит лошадка по заснеженным полям одинокие сани («Зимняя дорога. Версты»)… «Жалко судьбу деревни, - приговаривает Валентин Михайлович, - жалко судьбу народа. Как возродить? не знаю». Мы сидим с художником за крепким дубовым столом мастерской, пьем чай с пирожным, я рассматриваю картины.
На полке, под потолком - кузова из бересты, корзинки, кувшины. «Это всё из моего дома, - Валентин Михайлович замечает мой интерес к ним. – Я привозил их сюда не как коллекционер. Теперь жалею, что не привез многих еще вещей: коромысло, грабли, не привез жернова, которые хранились у нас не одно поколение. Я крутил эти жернова, чтобы перемолоть опилки, стружки, сухие травы какие-то, превратить все это в муку во время войны».
В тот вечер я ушла из мастерской с подарками: альбомом живописи Валентина Сидорова и небольшой его книгой, «Гори, гори ясно…» - название. Дома я открыла книгу, и с первого предложения: «Зыбка моя низко висела возле окна» - буквально провалилась в неё (не сразу сообразив – что же это такое «зыбка»). В упоительное повествование о вольнице деревенской жизни, годах войны, учебы в МСХШ… И я еще и еще раз открывала альбом, перелистывала страницу за страницей, потом снова продолжала чтение повести. Дует «Березовый ветер», мчит лошадка по заснеженным полям одинокие сани («Зимняя дорога. Версты»)… Тракт, что существует сегодня разве что в воображении художника, снова привел меня к Валентину Михайловичу Сидорову в мастерскую.
- Валентин Михайлович в своих картинах, в повести «Гори, гори ясно» вы описываете, в частности, мир вашего детства, который совпал с миром деревни. И меня вот не покидает теперь ощущение, что деревня – это своего рода детство России, из которого взрастает русский человек, где бы он не родился: в столице, провинции. Что вы думаете по этому поводу?
- Конечно. Деревня – хранительница традиций, хранительница памяти, весь жизненный уклад хранит. И еще предназначение деревни в том было, чтобы оберегать окружающий мир природы. У нас в деревне не было ведь ни одного пустого, не названного местечка. Каждый клочок имел своё обозначение, свое название в зависимости от каких-то исторически сложившихся событий. Были Петяшинский осинник, Кудрявцевский лес, Красотка, Пригородка… Сколько названий придумывал человек! И все они хранились, оберегались. Деревня жила по правилам, сложившимся не за один век. Главное правило – стремление к общности, артельности. Бабушка моя приговаривала: «Сначала об артели, потом о моем деле». Деревня жила общиной. Чинили ли мосты, или ставили заборы - всё делали вместе.
- И кто принимал решения?
- Все вопросы артели решали сходкой. Мальчики бежали по деревне, кричали: Сходка! Сходка!» Деревня собиралась, решались проблемы, что нужно для артели.В деревне был староста, он вел дела, самый организованный мужик был.Звали его у нас «Буденный», он еще в Конной армии служил. Мы и раньше, до колхоза жили в деревне артелью. У меня с бабушкой как-то разговор был про колхозы, у нас, например, в Коровине колхоз был хороший, и мои детские воспоминания были связаны с жизнью этого колхоза. Так вот, бабушка так говорила: «И раньше-то, сынок, мы всё сообща делали, и раньше-то делали артелью». Вот это «сообща», эта вот артельность была присуща крестьянству. «Мы, – говорит, – никогда не оставляли несжатую полосу у кого-нибудь. Мало ли какой случай мог быть: кто-то заболел, какое-то несчастье. Обязательно артелью сообща всем помогали». Люди понимали, только так, сообща, можно выжить. Общность объединяла, прививала неписанные, элементарные правила: не врать, не воровать, не обманывать, почитать старших. Эти правила передавались из поколения в поколение. Деревня – это была совершенно особая атмосфера.
- Что разрушало эту атмосферу?
- Вы знаете, еще в детстве я заметил разницу между одной деревней и другой. Мне неловко говорить сейчас какие-то слова, давать какие-то оценки деревням, Сорокопению и Коровину, потому что в Сорокопении я родился, а в Коровине, может быть, возникал как художник.Сорокопение находилась недалеко от Конаково, где была фабрика. И присутствие фабрики здорово влияло на население. Когда первый раз я пришел в Коровино, мне показалось, что в Коровине люди добрее, больше смеются, как-то непосредственнее они ведут себя и больше общаются. Тогда как в Сорокопении характер немножко не такой был, люди посердитее, так сказать, друг к другу были. Там появлялись уже «брылялы», так называли работающих на фабрике в Конаково. Они вели себя по-другому совершенно, чувствовали превосходство над теми, кто тут же в деревне крестьянствует. «Брылялы» эти внесли в общую жизнь деревни всё самое плохое – воровство, обман, пьянство, сквернословие. Фабрика разлагала, она устанавливала правила бытия капитализма, никакой пользы он не принес. Тогда как в Коровино у нас почти не матерились даже. Матерщине был дан негласный запрет. Таким вот злым матом как в Соропении никто не ругался. Мужик так выражал эмоции, говорил: «Ой, ехар махор!», «О черное небо!» Что это? Никто не знал. Курения не было. Пили по праздникам только. Общий праздник – лавки делали, стол. Гуляние, пение и пляски. Особый добрый мир.
- В русском языке крестьянин, крест, христианство – слова одного корня. Есть мнение, что все беды в России начались с того что крестьянин однажды отошел от Христа. Что вы думаете по этому поводу?
- Мне трудно сказать об этом, я ориентируюсь на опыт своей деревни. И не могу сказать, чтобы они ушли от христианства. Церковь особое положение занимала, у нас в Коровине все были верующие. Только Никоныч – член партии, председатель колхоза – нет. При этом его жена, Пелагея, невероятно верующая была, её назвали хранительницей всех молитв. Всегда в доме лампадка горела. Моя бабушка с этой Пелагией дружила. Они собирались в избе накануне праздника, и втроем с Никонычем пели тихонечко. Пели нараспев. Никоныч был удивительно добрым стариком. Церковь являлась хранительницей традиций, нравственности. Кроме того, оказывала сильное влияние на деревню: весь жизненный ритм в деревне строился по церковному календарю. Этот церковный календарь был сильно связан с сельской жизнью и тоже сохранял её традиции. Понимаете, работа на земле она была тесно связана с церковным календарем. Вознесение – это значит яички в рожь надо бросать, чтобы «лети на небеса, тащи рожь за колоса». Никита мученик, Троица – определенные циклы сельскохозяйственных работ. Всё это вошло в жизнь крестьян. Отмечались Ильин день, Никола, Петров день, из светских праздников, знали только Октябрьскую и 1 мая. Церковь имела и объединяющую силу. В каждой деревне был свой престольный праздник, и на праздники съезжались из разных деревень. И это тоже было традицией.